Уистен Хью Оден (1907—1973)
В воспоминаниях о своём детстве Уистен Хью Оден представляет себя типичным маменькиным сынком: «Я был умником не по годам, физически слабо развитым, близоруким, слабаком во всех играх, грязнулей и неряхой, ногтегрызом, трусливым, лживым и сентиментальным малым...». А между тем одно из свойств (названное наряду со слабостями и недостатками) совсем не типично: уж слишком не по годам он был «умником», слишком стремительно шло его интеллектуальное развитие. При этом «опережающему», «раннему» уму юного Одена были присущи именно те качества, которых не хватало ему в спорте и драке, — игровая ловкость, напористость, агрессивность, воля к самоутверждению. Они-то и вывели его на поэтическое поприще.

Оден и не помышлял о поэзии, пока ему, пятнадцатилетнему подростку, не сказали: «Ты пишешь стихи? Нет? Надо бы писать». И что же? Уже через две-три недели появилась стопка стихотворений, ничуть не хуже тех, которые печатались тогда в журналах и антологиях.
А через три года, когда Оден стал оксфордским студентом, его пригласили на собеседование: «Что вы собираетесь делать после окончания университета?» — «Я собираюсь стать поэтом». — «Тогда вам стоит прослушать курс английской словесности». — «Вы не поняли: я собираюсь стать великим поэтом». Загаданное тогда желание сбылось гораздо раньше, чем кто-либо мог ожидать. Не прошло и десяти лет, а об Одене уже говорили как о властителе дум. Ещё совсем молодой человек, он стал духовным лидером 30-х гг. В то время шутили, что он вырос в целую «национальную организацию»; позже, и без всяких шуток, третье десятилетие века стали называть «эпохой Одена», тогдашних английских писателей — «поколением Одена». Начинающий поэт ощутил себя в роли учителя — законодателя литературной моды, общественного трибуна, чуть ли не пророка.

Необычайно быстрое развитие Одена имело неожиданные последствия: он начал давать уроки своим современникам, ещё не успев преодолеть в себе подростка. Поэтому-то он и был таким необычным учителем: к своим ученикам-детям (несколько лет Оден с успехом преподавал в школе) обращался как к равным, к взрослым читателям — как к ученикам.
Сам же Оден не спешил взрослеть: не меньше роли учителя ему нравилась роль школьника-бунтаря, поднимающего, по выражению одного критика, «восстание в классной комнате».
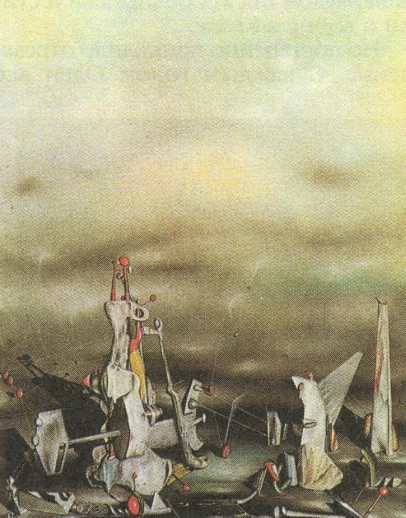
Читатели, критики, собратья по перу, восхищаясь смелым умом Одена, в то же время отмечали, что ум этот — невзрослый. Прозаик Кристофер Ишервуд писал в воспоминаниях о том, как Оден выбирал головные уборы в зависимости от идей, приходивших ему в голову: изысканный котелок сменялся рабочей кепкой. Это напоминало детскую игру. Во многом того же свойства была его игра с политическими идеями: сначала с полуфашистской концепцией лидера-«сверхчеловека», затем с марксистской теорией классовой борьбы. Любопытно, что оденовская интерпретация этих идей тесно связана с его детскими и юношескими увлечениями.
Например: в чём причина тяготения молодого Одена к описанию свалок и заброшенных шахт? Только ли в том, что он, по словам советского критика, чувствует «всю неминуемость катастрофы, которая ждёт буржуазный мир»? Не только. Ещё ребёнком Оден увлекался техникой и геологией, мечтал стать горным инженером («Я любил насос, / Он мне казался каждой своей деталью / Таким же прекрасным, как ты»; «...Красивые машины, что молчали, / Позволяя мальчику им поклоняться»). Он подолгу бродил в районах карьеров и рудников, и с тех пор именно картины индустриальных пустырей по-настоящему завораживали его:
Кто на сыром шоссе у перекрёстка
встанет,
Левей водораздела, средь травы,
Внизу заброшенный увидит прииск,
Обрывки ржавых рельс, бегущих к лесу,
Следы промышленности коматозной... (Здесь и далее перевод И. А. Романовича.)
Так же и в обращении поэта к марксизму ощутим привкус школьных увлечений биологией, медициной, психологией (его отец был врачом). Теорию Маркса он понимает как продолжение эволюционной теории Дарвина, классовую борьбу — как продолжение естественного отбора и борьбы за существование. Участь буржуазии — вымирание, на её место должен прийти более жизнеспособный класс, со здоровой кровью, — пролетариат:
Сожги дома умерших и взгляни с улыбкой
На новый стиль строений, смену сердца.
А пока долг поэта — фиксировать, подобно врачу, симптомы «буржуазной» болезни: невроз, дегенерацию, истощение, ложь как воспалительный процесс.
В 30-х гг. Оден по-детски азартно играл роль революционера не только в стихах, но и в жизни. Сначала он пытался найти себе работу в СССР, однако безуспешно. Затем, в 1937 г., отправился шофёром на гражданскую войну в Испанию («Я, наверное, чертовски плохой солдат, но как я смогу говорить с ними или для них, если не стану одним из них?») — и там он оказался лишним. Наконец, в 1938 г. поехал со своим другом Ишервудом писать репортажи и стихи о войне в Китае.

Но постепенно приходило отрезвление. С каждым годом Оден всё меньше хотел связывать себя с коммунистами и левым движением в целом, всё больше настаивал на независимости поэзии от политики. Видимо, чтобы чётче обозначить водораздел между юностью и зрелостью, в 1939 г. он эмигрировал в США. День его прибытия в Нью-Йорк стал датой падения республиканской Барселоны, а ещё через два дня в стихах, написанных на смерть ирландского поэта Уильяма Батлера Йейтса, Оден отрёкся от веры в действенность поэзии: «Поэзия ничего не меняет». Итог своей юношеской игре он подвёл в стихотворении «1 сентября 1939 года», и итог этот оказался неутешительным:
Я дрожу в ресторанчике
На Пятьдесят Второй
Улице, в тусклом свете
Гибнут надежды умников
Бесчестного десятилетия... (Здесь и далее перевод А. Я. Сергеева.)
В тот день началась Вторая мировая война.
Так Оден «повзрослел». А затем начал опровергать самого себя — прежнего. Важно, что разоблачал он именно те строки, которые в своё время сильнее всего воздействовали на читателей. Чем убедительней звучали стихи когда-то, тем безжалостней судил их в дальнейшем автор. Он не пощадил ни выразительную концовку стихотворения «Испания в 1937 году» («...время коротко и / История побеждённому / Может сказать „увы", / но не может ни помочь, ни простить»), ни знаменитые строки из «1 сентября 1939 года»:
Нет никаких Государств.
В одиночку не уцелеть.
Горе сравняло всех.
Выбор у нас один:
Любить или умереть.
В обоих случаях резолюция позднего Одена была предельно суровой: «Ложь». И он выкинул эти стихотворения из своего итогового собрания.
После тридцати Оден выбрал новую роль. Опережая время, он почувствовал себя патриархом, принял позу мудреца и обрёл христианскую веру. Что ж, и в этой роли Оден был великолепным актёром, с достоинством выдержавшим её до конца жизни.

Спрашивается: почему он всегда (и в ранний, и в поздний период творчества) казался столь неотразимо убедительным? В чём причина его особенной власти над душами читателей, независимо от того, проповедовал ли он коммунизм или христианство? А дело здесь, видимо, в удивительной способности Одена выразить любую мысль наилучшим образом. Ему был дан, по словам поэта Иосифа Бродского, «уникальный лингвистический дар».
«Оден — наиболее плодовитый автор. Кажется, что проблемы формы и техники мало беспокоят его. Вы могли бы сказать ему: „Пожалуйста, напишите двойную балладу о достоинствах какого-либо вида зубной пасты, которая должна при этом содержать по крайней мере десять анаграмм с именами знаменитых политиков, и чтобы был рефрен...» Через двадцать четыре часа баллада была бы готова — и это была бы хорошая баллада». К. Ишервуд
Жанровый диапазон Одена представляется безграничным. Он с равным успехом демонстрировал и виртуозную «болтовню» в стиле байроновского «Дон Жуана», и афористическую дидактику в духе поэта XVIII в. А. Попа, и сжатую мудрость эпиграммы. Ему были доступны все эмоции: нежность любовной лирики, элегическая тоска, высокая торжественность политической оды, язвительность сатиры... На удивление разнообразна и поэтическая техника: Оден одинаково блестяще владел и рифмованным, и белым стихом, легко варьировал «короткие» и «длинные» размеры, играючи преодолевал препятствия сложных форм, умел освежить привычные и простые. По мнению Бродского, в XX столетии «не было поэта более технически разнообразного», поэта с более обширным поэтическим словарём («он... брал направо и налево: из архаики... из профессиональной идиоматики, из шуточек ассимилировавшихся национальных меньшинств, из шлягеров» и т. д.).
Есть прямая связь между убедительностью Одена и его виртуозной поэтической техникой. Используя свой богатейший технический арсенал, например каламбурные рифмы и ритмическую эквилибристику, поэт каждый раз умел удивить читателя. Так, в одном из стихотворений неожиданно — по созвучию — уподоблены далёкие друг от друга понятия. Поэт пытается определить, что такое закон. И находит самый непредсказуемый ответ: «Закон — как любовь» («Law like Love»). И ещё один парадокс: чем ближе к концу, тем больше это философское стихотворение походит на детскую считалочку.
«Как в любви, мы не знаем откуда и почему, / Как в любви, мы не можем ни принудить, ни избежать, / Как в любви, мы часто плачем, / Как в любви, мы редко держим слово» («Like love we don’t know where or why / Like love we can’t compel or fly / Like love we often weep /Like love we seldom keep») У. X. Оден. «Закон — как любовь»
Наконец, очень часто Оден сталкивает, казалось бы, несочетаемые интонации, эмоции. Пример — соединение трагического пафоса и иронии в стихотворении на смерть друга — «Часы останови, забудь про телефон...» (1936 г.):
Созведья погаси и больше не смотри
Вверх. Упакуй луну и солнце разбери,
Слей в чашку океан, лес чисто подмети.
Отныне ничего в них больше не найти. (Перевод И. А. Бродского.)
«В лице Одена мы имеем единственного поэта, кто был способен писать много, легко и с блеском — так, что даже кажется, будто его вдохновение не стоит ему никакого труда. Можно подумать, что он работал под воздействием какого-то таинственного наркотика». С. Конноли, литературный критик
Оден часто спорил сам с собой, давал противоположные ответы на важнейшие вопросы. Сравним два стихотворения «на смерть». В процитированном выше столкновение высокой и низкой лексики («созвездья», «луна», «солнце» — и «упакуй», «разбери», «подмети») значительно усиливает основную мысль, одновременно трагическую и ироническую, — мысль о бесполезности поэтических гипербол и, шире, поэтического языка перед лицом смерти. А в стихотворении «Памяти У. Б. Йейтса» поэт, напротив, заявляет идею бессмертия и непобедимости поэтического языка: «Время, безжалостное / К смелым и невинным / И равнодушное / К физической красоте, / Поклоняется языку...». Одно высказывание противоречит другому. Но оба столь сильны, что остаётся сказать: «И то, и другое — правда, и в самом противоречии — правда».
